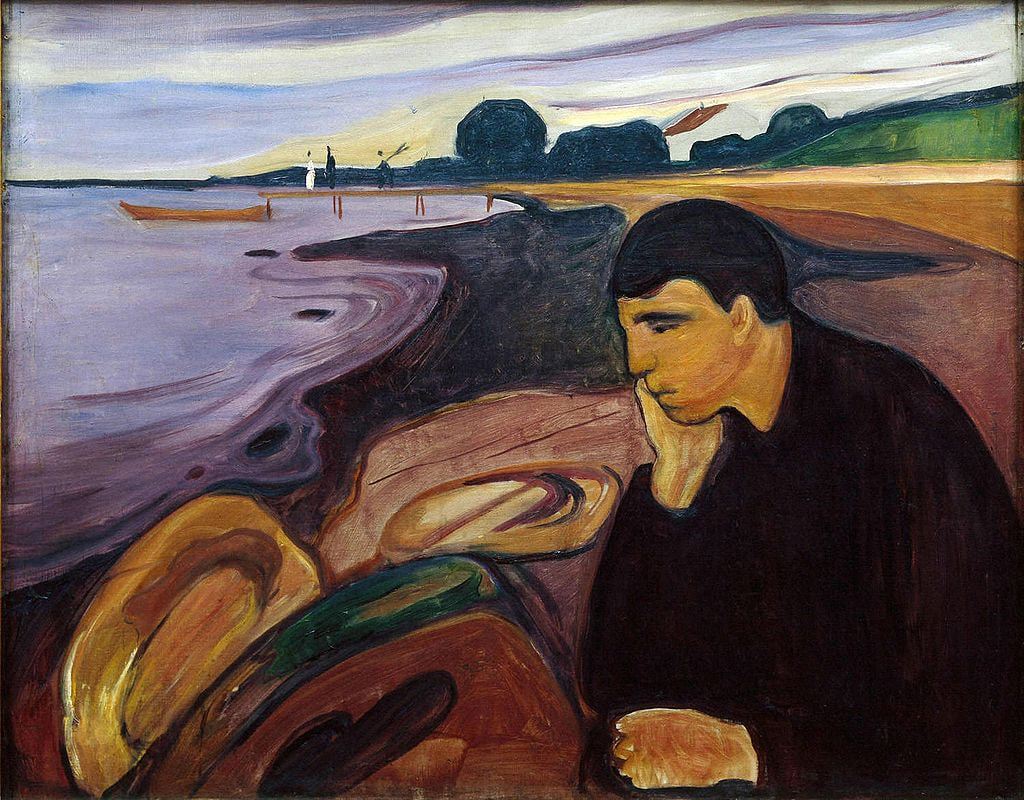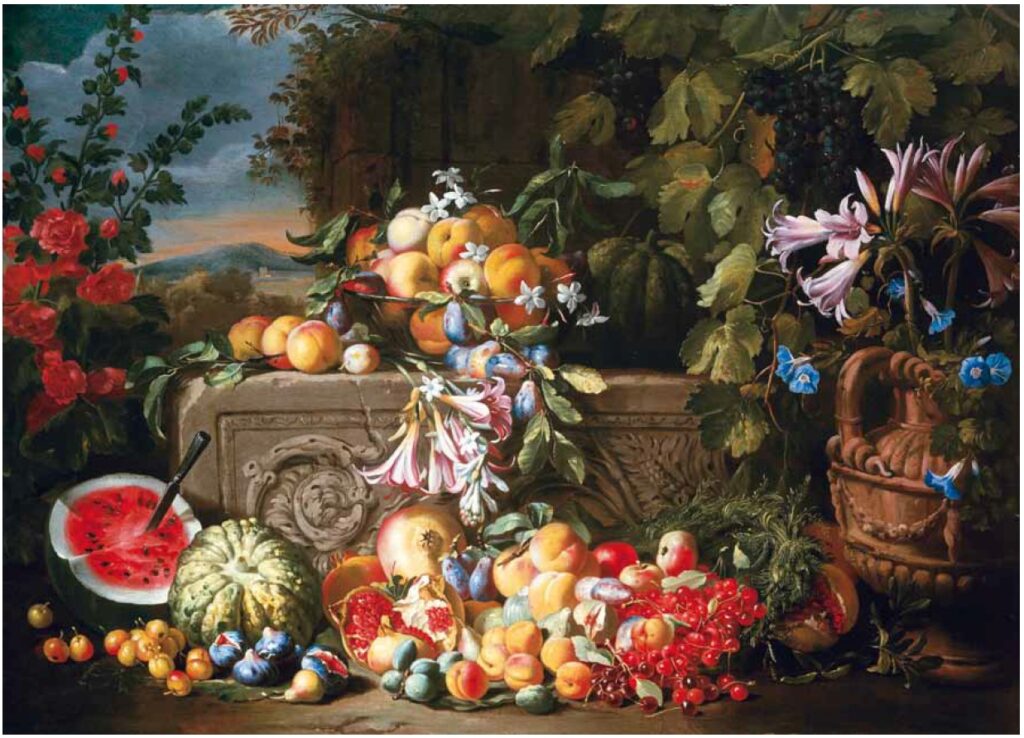Хочется войти в эту картину или подождать? Что чувствуете? Чем пахнет? Что это для вас?
Две фигуры стоят в очереди, в центре всеобщей суеты, которая их будто не касается. Мужчина с пилой на плече, женщина — на ослике. Брейгель делает так, чтобы мы не узнали их, чтобы мы смотрели на них, как на обычных бедняков в этой толпе, пришедших поставить галочку в бюрократическом отчёте габсбургской римской империи. Скрытность главных героев может быть связана со временем создания картины, 1566 годом, иконоборчеством, когда католики часто были вынуждены исповедовать свою веру тайно.
Вифлеем Брейгеля — это фламандская деревня, застывшая в хрустальный, ледяной день. Здесь ждут мессию? Нет, здесь режут свинью. Дети катаются на коньках по льду, вмерзшему в деревенский пруд. Люди греются у костра. Небольшой, изолированный дом справа от центра предназначен для прокаженных. Разрушенный замок в правом верхнем углу и небольшая церковь в левом верхнем углу могут быть символами Ветхого и Нового Завета, а могут быть просто приметами времени.
Мир настолько погружён в свои будничные дела, что чудо становится в нём невидимым. Оно приходит не в сиянии и ангельских песнопениях, а в виде усталой пары, которая должна заплатить налог за то, чтобы родить Спасителя мира. И в этом вся безжалостная мудрость художника.
Какой запах мы чувствуем, глядя на эту сцену?
Это не ладан и не смирна. Это запах ледяного воздуха, в котором висит дым из десятков печных труб.
Это адреналиновый дух крови свежезабитой свиньи, смешанный с запахом мокрой шерсти и снега.
Это восковый чад от свечи в окне и далёкий аромат тёмного пива, доносящийся из таверны «In die Swane» («В лебеде»), причудливо устроенной в дупле дерева.
Это запах жизни, грубой, настоящей, неочищенной.
Брейгель будто говорит: «Бог пришёл не в храм. Он пришёл к каждому из нас, даже на перепись населения, в толчею, в грязь, в бюрократию. Он прошёл тем же путём, что и все. И никто не обернулся».
«Перепись в Вифлееме» — это притча о неведении. О том, как мы, погружённые в свои свинарники и ледовые катки, в свои долги и отчёты, можем пропустить самое главное. Оно будет стоять смиренно в очереди рядом с нами, и мы, занятые своими делами, даже не поднимем глаз.
Простите, если это вас абьюзит, как говорится, но, мне кажется, что все мы до сих пор — в том Вифлееме…
Если вернуться к парфюмерным ассоциациям, то мне вспомнился Lalique «Encre Noire», он дает ту самую мрачноватую, влажную, минеральную глубину зимнего пейзажа Брейгеля. И еще фотореализм Demeter «Snow», это и есть тот самый запах первого чистого снега, морозного воздуха и лёгкой ледяной пыли. Он однонотный, простой, но фоторелистичный.